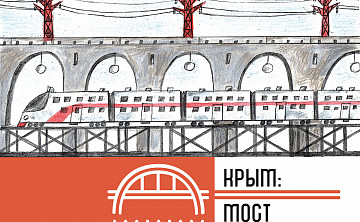В Азове располагалась конечная точка северного сухопутного маршрута Великого Шёлкового пути из Китая в Европу, откуда товары перегружались с верблюдов на корабли. Вплоть до нашествия Тамерлана здесь работала генуэзская фактория. По морям осуществлялись культурные связи Древней Руси с единоверцами из Византии. А в период существования Тмутараканского княжества (Х-ХI века) сообщение между его крымской и таманской частями только по морям и можно было организовать.
И в военные походы древние русичи с варягами на однодревках-моноксилах ходили также по Чёрному морю, которое в те годы именовалось уже не Понтом Евксинским, а Русским морем. С моря же в крымском Херсонесе получили крещение в новую веру.
Даже после монгольского завоевания и крушения единого Древнерусского государства южные моря продолжали играть важную роль в существовании его осколков. Запорожские казаки на чайках и донские казаки на стругах постоянно тревожили набегами Крымское ханство и Османскую империю.
Традиционный стереотип о том, что казаки – это в первую очередь конные воины сложился в последние два века. Заводское коневодство появилось на Дону достаточно поздно, лишь в XVIII веке. С XV века казаки воевали пешими, но частенько ходили в набеги «за зипунами» на вёслах и под парусом. Их основными пиратскими ареалами были побережья Чёрного, Азовского и Каспийского морей.

Арсений Рагунштейн в своей книге «За три моря за зипунами» пишет: «Казачьи челны, согласно описаниям французского инженера Боплана, имели длину 60 футов (18 метров), ширину – 10-12 (3-3,6 метра) и глубину – 8 (2,4 метра), с двумя рулями. Эта лодка не имела киля, и в её основании находилась выдолбленная колода из вербы или липы. После того, как ствол дерева выдалбливали, борта наращивали за счёт досок около 10-12 футов длиной и около фунта шириной, пока судно не достигало нужных размеров. Для придания плавучести по бортам прикреплялись связки сухого тростника. Внутри лодки плотники устраивали перегородки и скамьи для сидения, а затем смолили дно. На каждый борт обычно приходится по 10-15 вёсел. Узкий корпус и небольшой вес позволял этим лодкам передвигаться быстрее, чем турецким галерам. В качестве вспомогательного средства передвижения на чайке имелся парус на единственной мачте, однако его поднимали лишь в хорошую погоду, а при волнении казаки предпочитали передвигаться на вёслах. Поскольку казачьи челны не имели палубного настила, они довольно часто заливались сильной волной, и только связки тростника не давали лодке утонуть».
Так в 1614 году казачий набег на турецкий Синоп закончился успехом. По словам турецкого историка Мустафы Наимы, казаки, «захватив тамошний старинный замок, вырезали гарнизон, ограбили и опустошили дома мусульманские и в конце сожгли… так что тот прекрасный и чудесный город превратился в печальную пустыню».
В 1617 году атаман Епиха Родилов с 700 казаками разорил турецкие селения на побережье Азовского моря. На его поимку отправили отряд янычар на семи каторгах с двумя пашами. В морском сражении турки были разгромлены, один из пашей попал в плен. Все каторги оказались захвачены казаками. В том же году уже в устье Днепра Родилов дал ещё одно морское сражение, в котором сжёг турецкий флот и захватил в плен капудан-пашу.
В 1618 году казачья ватага атамана Исая Мартемьянова на 40 стругах опустошила болгарское побережье в районе Месемврии. В 1623 году он же на 30 стругах с тысячей казаков разорил берега Крыма и Тамани. А затем, соединившись в заранее оговоренном месте с 100 запорожских чаек с 6 тысячами казаков на борту, многочисленная флотилия неожиданно появилась у Стамбула, где выжгла предместья и даже два квартала столицы Порты.
В 1621 году 1300 донцов атаманов Суляна, Шило и Яцкой штурмом взяли турецкий город Ризе, сожгли дворец местного паши. Казаки «стали приступать к городу к Ризе и к пашинному двору, и тут им учинилась шкота великая, на приступе побили многих людей».
В 1625 году совместный набег донцов и запорожцев позволил казакам привести в трепет всё малоазийское побережье Чёрного моря. Были захвачены Трапезунд, Самсун, Синоп. Налётчики привезли домой богатые «зипуны».
От казачьих набегов неоднократно страдали Кафа, Очаков, Белгород-Днестровский, Судак, Балаклава, Тамань.
В 1628 году крымский хан Джанибек-Гирей писал жалобы в Москву: «Казаки-де их крымские улусы повоевали и деревни пожгли и лутчий город Карасов (Карасубазар) выжгли, и ныне-де казаки стоять в крымских улусах и шкоды людям их чинят».
В 1631 году полторы тысячи донцов высадились в Крыму в Ахтиарской бухте (в будущем Севастополе) и двинулись вглубь полуострова. 8 августа они взяли «большой город Козлов» (Гезлев). Затем казаки ушли в море и высадились в Сары-Кермене (античный Херсонес). Здесь они устроили свою базу, из которой совершали набеги и опустошали окрестности.
Итальянский дипломат Пьетро Делла Валле, путешествовавший по Османской империи, написал в своих «Записках»: «Нет таких городов возле Чёрного моря, которые не были бы захвачены казаками и разграблены».
Паша Кафы так излагал проблему царскому послу Ивану Кондыреву: «Донских казаков каждый год наши люди побивают многих, а всё их не убывает, сколько бы их в один год не побили, на другой год ещё больше того с Руси прибудет, если б прибылых людей на Дон с Руси не было, то мы давно бы уже управились с казаками и с Дона их сбили».
Царские власти для виду запрещали казакам разбойничать на морях, о чём дипломаты обязательно докладывали в Стамбуле и Бахчисарае. Доктор исторических наук Андрей Венков пишет: «Войско Донское Москвы не боялось (это даже турки видели), прикрывалось ею, как дырявой крышей. Перед турками и даже перед татарами московские дипломаты выставляли донцов разбойниками, заслуживающими смертной казни… Из Москвы казакам можно было получать свинец и порох, а по окраинным городам Московского государства – беспошлинно торговать. Это действительно имело вес».
На деле же пиратские рейды, ослабляющие врагов и продвигавшие российские интересы в Приазовье и Причерноморье, лишь поощрялись. Царь Алексей Михайлович узнал в июне 1646 года о том, что на Дону осталось только 5 стругов, поэтому донские корабелы вынуждены были разобрать прибывшие к ним царские будары и смастерить из них 20 стругов. Царь распорядился 28 июня 1646 года построить в Самаре, Саратове и Царицыне 100 однодеревных стругов длиной от 6 до 9 сажень (12,8-19,2 метра), пригодных для морских походов. Для этого из казны выделялось 2000 четвертей муки и 3200 рублей. Но поскольку морского опыта у «речных московитов» не было, с Дона прибыли на верфи два казачьих корабела с образцами стругов. Под их чутким руководством струги и дощаники были изготовлены и в июле 1649 года вместе с царёвым жалованием отправлены на Дон из Воронежа. Всего приплыли 8 дощаников и 33 струга. Дощаники имели длину от 21,8 до 29,3 метра и ширину от 3,2 до 5,3 метра. Габариты стругов были немного меньшими: длина от 16,5 до 18,6 метра и ширина от 2,1 до 3,4 метра. Ими могли управлять 12 гребцов.
Сохранилась даже «роспись» на строительство за 1646 год. Согласно этому документу, струг длиной 8 сажень (17 метра) и шириной 1 сажень (2,13 метра) стоил целых 7 рублей, а струг длиной 6,5 сажени (13,8 метра) и шириной сажень с пядью (2,3 метра) – 6 рублей.
Крепнувшее Московское государство в XVII веке всё пристальней всматривалось в сторону Юга. Здесь были и единоверческие Грузия с Арменией, и вассальная Кабарда, и выгодная торговля с Персией и Индией. Но главное – тут были тёплые моря, по которым легко было доставлять товары в Европу. Но для этого ещё нужно было заполучить на этих морях земли и построить военно-морскую базу.

Текст: Сергей Кисин
Фото: tassphoto.com
Проект Центра развития СМИ «Южное окно в Европу» реализуется при поддержке Фонда «История Отечества